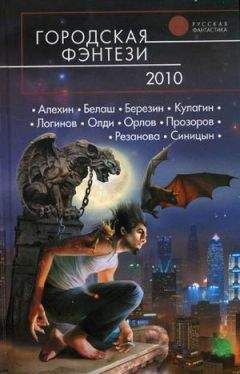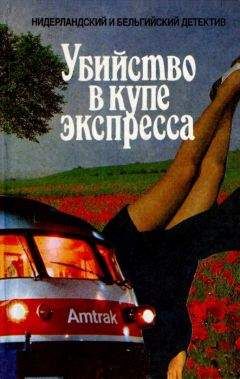Василь Быков - «Подвиг», 1989 № 05 [Антология]
— Может, его взяли?
— Нет вроде. Бели бы взяли, было бы известно. В полиции его нет. Может, какая накладка? Или СД сцапала?
— Может, и накладка. У меня вот хозяйка пропала. Уже две недели. Сказала, отлучусь на три дня, и пропала.
— Ну, теперь все может быть. Где-нибудь напоролась. Схватили. Или застрелили где-нибудь. Как ваша нога?
— Нога более-менее. Уже хожу. А как плечо?
— Да что плечо, заросло, как на собаке.
— Значит, можно уже действовать, если тут сидеть. Что-нибудь планируется? — спросил Агеев и умолк, весь внимание.
Молокович вслушался в тишину ночи и ответил не сразу:
— Кое-что задумали, может, на днях провернем. Только со взрывчаткой плохо.
— А какая нужна взрывчатка?
— Да хоть какая. Но на хороший взрыв.
— На хороший взрыв требуется хороший заряд. Добывать надо, — сказал Агеев. — А как связь с лесом?
— Трудно со связью. Все под наблюдением. Все дороги, улицы, ни проехать, ни провезти.
— Что слышно на фронте?
— Ерунда на фронте, — скупо сказал Молокович. — Немцы под Москвой.
— Да-а, — разочарованно протянул Агеев, неприятно пораженный этой вестью.
— Но все равно скоро подавятся. Уж Москву им не отдадут.
— Ну а мы что же, тут и будем сидеть? В этой дыре? — с плохо скрытой досадой сказал Агеев.
— А что же нам делать? Догонять фронт? Далековато, наверно.
— Оно-то далековато. Но все-таки мы военные. Командиры действующей армии.
— Действовать и тут можно. И нужно. А там видно будет.
Наверное, Молокович был прав, они обязаны действовать, вот только те действия, которые выпадали на долю Агеева, были не слишком подходящими для его натуры. Уж лучше бы бой, открытый огневой поединок в поле, чем эта непонятная игра, сплошная неопределенность, тягостное ожидание неизвестно чего. Он думал теперь, как сказать Молоковичу о полиции и ее посягательстве на него, Агеева, об этом непонятном прислужнике Ковешко. Как сделать, чтобы убраться куда-нибудь подальше из местечка, может, в лес, в партизанский лагерь, так как ему тут не место. Но в то же время что говорить Молоковичу, у которого тоже нет связи? Только вызывать подозрение у последнего, кто ему пока верит?
— Но куда же запропастился Кисляков? — снова спросил он в раздумье.
— Кисляков найдется. Может, ушел в лес? А на его место другой придет?
— Пришел бы скорее.
— А у вас что, срочные дела? Или сообщения? — спросил Молокович.
— И то и другое. Понимаешь, неделю назад привезли мешок обуви. Ну, починил. И никто не забирает.
— Заберут! Понадобится, заберут, — успокоил Молокович.
— А может, ждут, не доверяют?
— Да ну, с какой стати!
— Стать-то одна имеется. Начальник полиции повадился. Склоняет к сотрудничеству.
— В доносчики? — напряженно выпалил Молокович.
— В доносчики. Однажды едва в шталаг не отправил. Немецкий оберст потребовал отправить, — сказал Агеев и выждал, что на это ответит Молокович.
Молокович, однако, замялся, и Агеев понял сразу — напрасно рассказывал. Повторялась история с Кисляковым — его сообщение лишь настораживало, ничего не объясняя, усложняло и без того непростые их отношения.
— Да-a… Что ж, скверное дело, — неопределенно проговорил Молокович. — А отвертеться нельзя?
— Я, конечно, сотрудничать с ними не стану, но пойми мое положение: прямо отказаться я не могу. Они же меня сразу вздернут, — волнуясь проговорил Агеев.
— Это конечно.
— Поэтому мне тут больше нельзя. Надо в лес.
— Видимо, да, — вяло согласился Молокович.
Он не возражал, он вроде понимал Агеева, но по тому, как он сразу сник в разговоре, Агеев понял, что эта их встреча не облегчит его положения. Как бы не усугубила.
— При случае ты там скажи кому… Чтобы передали Волкову. Потому что я тут кругом на подозрении…
— Но ведь и там надо… доверие. С подозрением куда же в отряд?
— Да, это верно, — помедлив, сказал Агеев и опустился на топчан.
Вот об этом он не подумал. Ему казалось: только бы вырваться отсюда в лес, в партизанский отряд, где вокруг будут свои, и он освободится от гнетущей неопределенности, от унизительного подозрения со стороны своих же. Но ведь и там с подозрением невозможно, такой он там просто никому не нужен.
Так как же ему быть? Что делать?
Что делать, не посоветовал и Молокович, который, видно, сам знал не больше его. Агеев понимал это и обращался к нему только потому, что тот был местный, знал большее число людей и, думалось, связь у него должна быть надежнее. Оказывается, с исчезновением Кислякова у него тоже многое оборвалось.
Агеев проводил Молоковича до конца огородов по тропке, и они сухо простились. Знали бы оба, что им так недолго осталось быть на свободе, что это их последняя возможность открыто поговорить обо всем начистоту. Но не знали. И легко расстались. Молокович, как показалось Агееву, с облегчением даже, и Агеев, постояв минуту, проводил его взглядом, пока тот не скрылся в темени наступившей ночи. Оставшись один, он стал думать, почему так устроены люди, что вот появляется маленькая неясность и уже готовы усомниться, готовы поверить нескольким фактам и не верить долгим годам дружбы, знакомства, совместной работы, наконец, испытанию смертью, которое они недавно совместно выдержали. Но неужели Молокович тоже усомнился в его честности, неужто подумал хоть на минуту, что он двурушничает и может их предать? Предать кому? Этим вот шакалам, шавкам, которые предали самое святое в жизни, родину и народ во имя спасения собственной шкуры? И он пойдет к Ним в услужение? Надо было вовсе не знать его, старшего лейтенанта Агеева, или иметь цыплячьи мозги в голове, чтобы подумать такое. Но ведь, наверно, подумали? Наверно, думать так было привычнее? Или проще? Или, возможно, практичнее, дальновиднее? Но, если дальновиднее, как же тогда его человеческая судьба? Или в такой обстановке одна судьба ничего не стоит? Так сколько же тогда судеб чего-нибудь стоят? Сто? Тысяча? Десять тысяч?
Нет, видно, если ничего не стоит одна, так мало стоят и десять тысяч. Таков уж элементарный закон арифметики. Арифметики, но не войны. У войны свои, далеко не человеческие законы, и они будут править людьми, пока будут войны.
Ну что ж, будь что будет. Главное, не метаться, не изворачиваться, думал Агеев, оставаться человеком, каким он был двадцать шесть прожитых лет. Те четыре года, что он прослужил в армии, он старался быть хорошим командиром и, наверное, был таковым. По крайней мере, в его личном деле, некогда хранившемся в строевой части полка, значилось восемь поощрений и ни одного взыскания, хотя стычки с начальством не были для него большой редкостью, и, случалось, он получал хорошие взбучки. Но помимо служебных отношений с начальством были еще различного рода общения с равными себе, средними командирами, товарищами и друзьями, были, наконец, отношения с подчиненными сержантами и красноармейцами. А для Агеева, может дороже, чем мнение начальства о нем, была где-нибудь случайно оброненная фраза: «А он вроде ничего мужик, этот Агеев. К другим оценкам он не привык за свою армейскую жизнь, а то, что теперь закручивалось вокруг него в этом местечке, повергало его в отчаяние.
Растревоженный и подавленный, он пошел на кухню, в темноте закрыл на крючок дверь и сразу попал в объятия теплых девичьих рук. Мария подвела его к столу и, усаживая на стул, зашептала:
— Ну, сейчас я тебя накормлю… Сейчас, сейчас…
Прежде чем он что-либо успел понять, она сунула ему в руку огромный, тмином пахнущий ломоть хлеба, в другую большую кружку с молоком.
— Ешь! Ну? Вкусно?
Да, это было чертовски вкусно, казалось, никогда он не ел такого вкусного хлеба и такого молока, желудок его блаженствовал, и он молча проглотил все, запил остатками молока.
— Ну, наелся? Хочешь еще?
Агеев больше не хотел — он уже понял, что она выбегала куда-то, может, к сестре или соседям, и ему стало страшно. Она была тут единственной его радостью и, наверное, единственной опорой, на которую он мог положиться. Опасение потерять ев отозвалось в нем испугом, какого он не испытывал, наверное, даже перед лицом собственной гибели.
— Спасибо! — сказал он, целуя в темноте мягкие ее ладошки. — Но я тебя прошу: не ходи никуда! Не надо! Как-нибудь. Пойдем вместе…
— Куда? — с наивной поспешностью спросила она, словно готовая тотчас бежать вместе с ним.
— Куда? Пойдем куда-либо. Придет час, и пойдем.
— Придет час! Я верю, что настанет наш час. Должен настать. И кончится эта ночь. И ничего не будет нам угрожать. Ой, как я хочу дожить до того часа… Милый Олежка мой…
Она опустилась на пол возле его ног, обеими руками обхватила их, и они ласкались так, едва сдерживая рыдания. И он молча вытирал ее мокрые щеки, напряженно соображая, как спасти ее и себя от вплотную надвигающейся на них безжалостной колесницы уничтожения. Может быть, именно в этот вечер он почувствовал, то, что ранее как-то не доходило до его сознания — что он ее любит вопреки своим намерениям, вопреки войне и даже здравому смыслу. Наверное, ему надо было сказать ей о том, но разве и без слов это не было ясно обоим?..